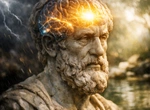Японский цветок Vincetoxicum nakaianum использует уникальную стратегию обманной опыления. Он выделяет специфический аромат, химически имитирующий сигналы бедствия раненых муравьёв. Этот «болезненный парфюм» привлекает падальных травяных мух, которые, в поисках добычи, непреднамеренно становятся его опылителями. Исследование было опубликовано 20 октября в журнале Current Biology.

Открытие началось с наблюдения ботаника из Токийского университета Ко Мотидзуки в Ботанических садах Коисикава в Токио. Он заметил «облака падальных травяных мух», кружащих над цветами V. nakaianum. Это явление было описано как «действительно странная и редкая картина в природе», поскольку эти мухи не питаются нектаром и обычно не интересуются цветами.
Травяные мухи являются клептопаразитами — они не охотятся сами, а крадут пищу у других хищников. Их рацион состоит из повреждённых насекомых, таких как раненые медоносные пчёлы или клопы. Этот факт заставил Мотидзуки предположить, что цветы обманывают мух, заставляя их заниматься опылением.
Гипотеза заключалась в том, что цветы выделяют летучие химические соединения, которые в точности повторяют запах раненых насекомых, являющихся основной пищей для травяных мух. Чтобы проверить это, Мотидзуки сначала подтвердил, что мухи, посещающие природные популяции V. nakaianum, действительно переносят пыльцу.
Химический анализ летучих соединений, выделяемых цветком, показал, что его аромат является «почти идеальным химическим соответствием» смеси сигналов бедствия, испускаемых ранеными муравьями. Это стало прямым доказательством химической мимикрии.
Для дальнейшего подтверждения команда исследователей создала синтетическую версию этого аромата в лаборатории. Эксперименты показали, что травяные мухи проявляли к нему такой же интерес, как и к настоящим цветам. Это подтвердило, что именно специфический запах привлекает насекомых.
В отдельном эксперименте в контролируемом лабиринте мухи успешно находили муравьёв, убитых пауками, используя исключительно обоняние. Это доказало, что мухи способны охотиться по запаху, и что аромат цветка является основным и достаточным стимулом для их привлечения.
Подобная мимикрия встречается и у других растений. Например, «парашютное растение» (Ceropegia sandersonii) пахнет ранеными медоносными пчёлами, а кирказон круглолистный (Aristolochia rotunda) имитирует запах повреждённых клопов.
Однако ключевое различие заключается в строении цветка. Упомянутые виды-обманщики обычно имеют сложные цветы-ловушки для удержания опылителей. В отличие от них, цветы V. nakaianum имеют морфологически обычное, ничем не примечательное строение.
Ко Мотидзуки заключил: «Странная мимикрия не ограничивается цветами с очень странной морфологией». В планах исследователя — изучение родственных видов растений, чтобы понять, как эволюционируют такие «необычные системы мимикрии».
Роберт Рагузо, биолог из Корнелльского университета, комментируя открытие, ввёл немецкий термин Umwelt, описывающий уникальный сенсорный мир, в котором существует каждый организм. Это открытие, по его словам, раскрывает сенсорную реальность, которую люди едва могут себе представить.
Рагузо назвал способность цветка вызывать «химическую сущность раненых муравьёв» почти «магическим трюком». Этот неприметный цветок демонстрирует скрытую сложность взаимодействий в природе, где запахи служат невидимыми нитями, связывающими хищников, жертв и обманщиков.

Изображение носит иллюстративный характер
Открытие началось с наблюдения ботаника из Токийского университета Ко Мотидзуки в Ботанических садах Коисикава в Токио. Он заметил «облака падальных травяных мух», кружащих над цветами V. nakaianum. Это явление было описано как «действительно странная и редкая картина в природе», поскольку эти мухи не питаются нектаром и обычно не интересуются цветами.
Травяные мухи являются клептопаразитами — они не охотятся сами, а крадут пищу у других хищников. Их рацион состоит из повреждённых насекомых, таких как раненые медоносные пчёлы или клопы. Этот факт заставил Мотидзуки предположить, что цветы обманывают мух, заставляя их заниматься опылением.
Гипотеза заключалась в том, что цветы выделяют летучие химические соединения, которые в точности повторяют запах раненых насекомых, являющихся основной пищей для травяных мух. Чтобы проверить это, Мотидзуки сначала подтвердил, что мухи, посещающие природные популяции V. nakaianum, действительно переносят пыльцу.
Химический анализ летучих соединений, выделяемых цветком, показал, что его аромат является «почти идеальным химическим соответствием» смеси сигналов бедствия, испускаемых ранеными муравьями. Это стало прямым доказательством химической мимикрии.
Для дальнейшего подтверждения команда исследователей создала синтетическую версию этого аромата в лаборатории. Эксперименты показали, что травяные мухи проявляли к нему такой же интерес, как и к настоящим цветам. Это подтвердило, что именно специфический запах привлекает насекомых.
В отдельном эксперименте в контролируемом лабиринте мухи успешно находили муравьёв, убитых пауками, используя исключительно обоняние. Это доказало, что мухи способны охотиться по запаху, и что аромат цветка является основным и достаточным стимулом для их привлечения.
Подобная мимикрия встречается и у других растений. Например, «парашютное растение» (Ceropegia sandersonii) пахнет ранеными медоносными пчёлами, а кирказон круглолистный (Aristolochia rotunda) имитирует запах повреждённых клопов.
Однако ключевое различие заключается в строении цветка. Упомянутые виды-обманщики обычно имеют сложные цветы-ловушки для удержания опылителей. В отличие от них, цветы V. nakaianum имеют морфологически обычное, ничем не примечательное строение.
Ко Мотидзуки заключил: «Странная мимикрия не ограничивается цветами с очень странной морфологией». В планах исследователя — изучение родственных видов растений, чтобы понять, как эволюционируют такие «необычные системы мимикрии».
Роберт Рагузо, биолог из Корнелльского университета, комментируя открытие, ввёл немецкий термин Umwelt, описывающий уникальный сенсорный мир, в котором существует каждый организм. Это открытие, по его словам, раскрывает сенсорную реальность, которую люди едва могут себе представить.
Рагузо назвал способность цветка вызывать «химическую сущность раненых муравьёв» почти «магическим трюком». Этот неприметный цветок демонстрирует скрытую сложность взаимодействий в природе, где запахи служат невидимыми нитями, связывающими хищников, жертв и обманщиков.