Крупные рыночные лидеры терпят крах перед лицом прорывных изменений не из-за близорукости, а из-за паралича. Они видят надвигающуюся угрозу, но внутренние конфликты и психологическая боль от краткосрочных потерь мешают им адаптироваться, даже когда долгосрочная выгода очевидна. Две истории, разделенные веками, иллюстрируют этот фатальный парадокс: Католическая церковь и печатный станок, а также Eastman Kodak и цифровая фотография.
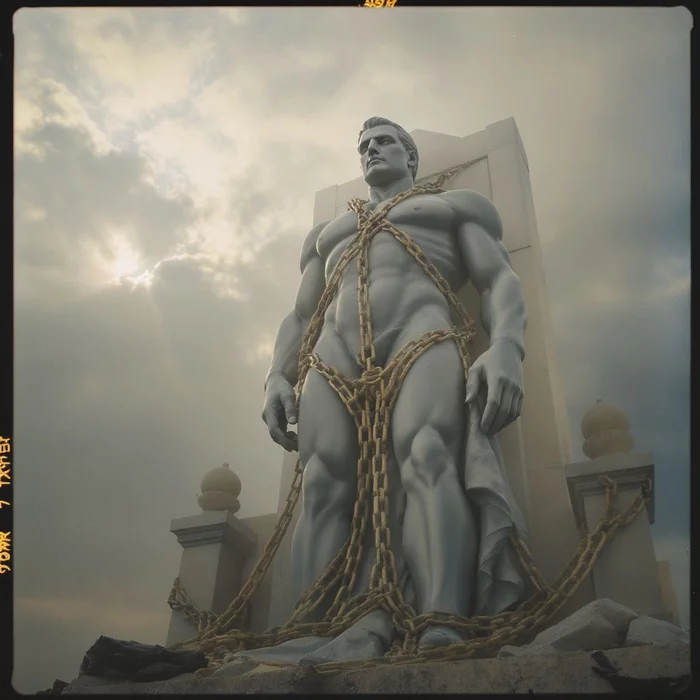
Изобретение печатного станка Иоганном Гутенбергом в 1440-х годах стало технологией двойного назначения. С одной стороны, оно ускорило распространение знаний. С другой — пропаганды и «манипулятивной, разрушительной лжи». Католическая церковь изначально была в восторге от новой технологии. Она помогала собирать деньги на крестовые походы и обеспечивать верующих Библиями в невиданных ранее масштабах. Церковь первой воспользовалась инновацией, не подозревая о ее побочных эффектах.
Энтузиазм начал угасать, когда технология обернулась против ее интересов. Во время гражданской войны в Майнце в 1462 году обе стороны использовали прессу для пропаганды. Однако настоящим переломным моментом стало то, как станок ускорил распространение «девяноста пяти тезисов» Мартина Лютера. Технология, которую церковь поддерживала, стала главным оружием Реформации, расколовшей ее влияние.
Масштаб этого подрыва был колоссальным. Между 1518 и 1525 годами треть всех книг, напечатанных в Германии, была написана Мартином Лютером. Как писал историк Джон Мэн: «Шум, сопровождавший послание Лютера о грядущем суде, вероятно, был не стуком молотка, а скрипом и грохотом работающих типографских станков». Эта же модель разрушения повторилась по всей Англии. Прорывные технологии всегда создают победителей и проигравших. В тот раз победителями стали ученые и революционеры, а проигравшими — писцы и кардиналы, извлекавшие выгоду из невежества.
Спустя почти пять веков история повторилась с компанией Eastman Kodak. В 1980-х годах это был один из мировых гигантов, который еще в 1900 году выпустил доступную камеру Brownie, сделав фотографию массовой. 19 января 2012 года компания объявила о банкротстве. Распространенная версия гласит, что Kodak проспала переход на цифровые технологии. Это неправда.
В действительности Kodak была пионером в этой области. Инженер компании Стив Сэссон создал рабочий прототип цифровой камеры еще в 1975 году. Распространенная цитата из его интервью New York Times в 2008 году, где руководство якобы сказало: «Это мило, но никому об этом не рассказывай», — неточна. Компания инвестировала миллиарды долларов в цифровые технологии и разработала успешную линейку камер EasyShare. Kodak видела будущее, но не смогла принять его последствия.
Настоящим разрушительным фактором стало не просто цифровое изображение, а слияние камер с мобильными телефонами и, как следствие, социальный обмен фотографиями. И об этом в Kodak тоже знали. В мае 2001 года компания приобрела сайт для обмена фотографиями Ofoto. Здесь и была совершена критическая ошибка. Вместо того чтобы сделать обмен фотографиями проще, Kodak намеренно усложнила его, пытаясь заставить пользователей печатать физические снимки.
Компания пыталась использовать новую платформу для поддержки своей старой бизнес-модели, вместо того чтобы переосмыслить и изобрести себя заново. Ирония заключалась в том, что слоган Kodak гласил: «Делитесь воспоминаниями, делитесь жизнью». Kodak могла бы использовать Ofoto для создания социальной сети, полностью реализовав свой же девиз. Но она этого не сделала. Три года спустя, в 2004 году, Марк Цукерберг создал Ф⃰, сделав именно то, что упустила Kodak.
Фундаментальная причина неудач лидеров рынка — не слепота. Они видят грядущие перемены, а зачастую и сами участвуют в их создании. Проблема в другом. Во-первых, прорывные технологии угрожают устоявшейся динамике власти внутри организаций, создавая внутреннее сопротивление.
Во-вторых, ключевую роль играет психология. Современные исследования поведенческих психологов показывают, что люди предпочитают избежать потерь, нежели получить эквивалентную выгоду. Этот принцип, известный как «неприятие потерь», объясняет паралич действующих лидеров.
Даже рациональный руководитель, понимающий, что инвестиции в новую технологию — правильное долгосрочное решение, будет колебаться. Краткосрочная боль от перехода — каннибализация прибыльных, но устаревающих подразделений, потеря власти старой гвардией, финансовые убытки в переходный период — ощущается острее и реальнее, чем туманная перспектива будущих выгод. Этот страх потерь парализует волю и приводит к бездействию, которое в конечном счете оказывается фатальным.
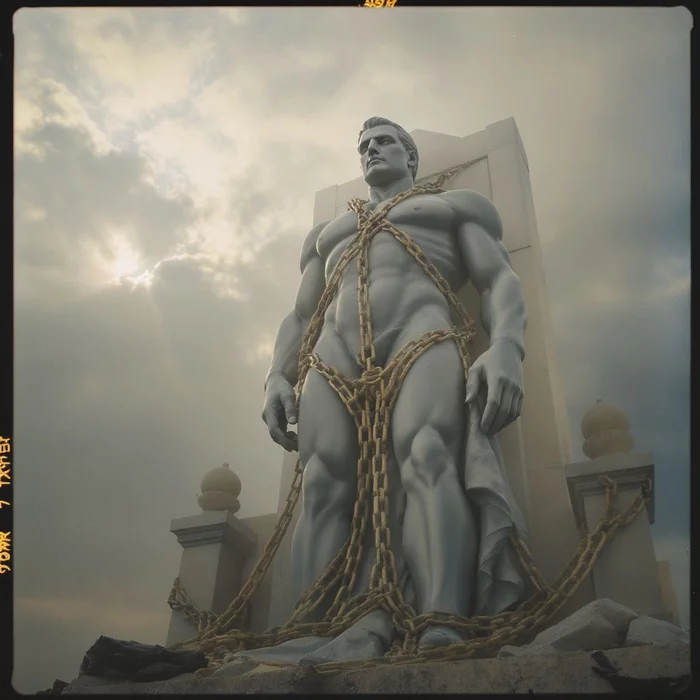
Изображение носит иллюстративный характер
Изобретение печатного станка Иоганном Гутенбергом в 1440-х годах стало технологией двойного назначения. С одной стороны, оно ускорило распространение знаний. С другой — пропаганды и «манипулятивной, разрушительной лжи». Католическая церковь изначально была в восторге от новой технологии. Она помогала собирать деньги на крестовые походы и обеспечивать верующих Библиями в невиданных ранее масштабах. Церковь первой воспользовалась инновацией, не подозревая о ее побочных эффектах.
Энтузиазм начал угасать, когда технология обернулась против ее интересов. Во время гражданской войны в Майнце в 1462 году обе стороны использовали прессу для пропаганды. Однако настоящим переломным моментом стало то, как станок ускорил распространение «девяноста пяти тезисов» Мартина Лютера. Технология, которую церковь поддерживала, стала главным оружием Реформации, расколовшей ее влияние.
Масштаб этого подрыва был колоссальным. Между 1518 и 1525 годами треть всех книг, напечатанных в Германии, была написана Мартином Лютером. Как писал историк Джон Мэн: «Шум, сопровождавший послание Лютера о грядущем суде, вероятно, был не стуком молотка, а скрипом и грохотом работающих типографских станков». Эта же модель разрушения повторилась по всей Англии. Прорывные технологии всегда создают победителей и проигравших. В тот раз победителями стали ученые и революционеры, а проигравшими — писцы и кардиналы, извлекавшие выгоду из невежества.
Спустя почти пять веков история повторилась с компанией Eastman Kodak. В 1980-х годах это был один из мировых гигантов, который еще в 1900 году выпустил доступную камеру Brownie, сделав фотографию массовой. 19 января 2012 года компания объявила о банкротстве. Распространенная версия гласит, что Kodak проспала переход на цифровые технологии. Это неправда.
В действительности Kodak была пионером в этой области. Инженер компании Стив Сэссон создал рабочий прототип цифровой камеры еще в 1975 году. Распространенная цитата из его интервью New York Times в 2008 году, где руководство якобы сказало: «Это мило, но никому об этом не рассказывай», — неточна. Компания инвестировала миллиарды долларов в цифровые технологии и разработала успешную линейку камер EasyShare. Kodak видела будущее, но не смогла принять его последствия.
Настоящим разрушительным фактором стало не просто цифровое изображение, а слияние камер с мобильными телефонами и, как следствие, социальный обмен фотографиями. И об этом в Kodak тоже знали. В мае 2001 года компания приобрела сайт для обмена фотографиями Ofoto. Здесь и была совершена критическая ошибка. Вместо того чтобы сделать обмен фотографиями проще, Kodak намеренно усложнила его, пытаясь заставить пользователей печатать физические снимки.
Компания пыталась использовать новую платформу для поддержки своей старой бизнес-модели, вместо того чтобы переосмыслить и изобрести себя заново. Ирония заключалась в том, что слоган Kodak гласил: «Делитесь воспоминаниями, делитесь жизнью». Kodak могла бы использовать Ofoto для создания социальной сети, полностью реализовав свой же девиз. Но она этого не сделала. Три года спустя, в 2004 году, Марк Цукерберг создал Ф⃰, сделав именно то, что упустила Kodak.
Фундаментальная причина неудач лидеров рынка — не слепота. Они видят грядущие перемены, а зачастую и сами участвуют в их создании. Проблема в другом. Во-первых, прорывные технологии угрожают устоявшейся динамике власти внутри организаций, создавая внутреннее сопротивление.
Во-вторых, ключевую роль играет психология. Современные исследования поведенческих психологов показывают, что люди предпочитают избежать потерь, нежели получить эквивалентную выгоду. Этот принцип, известный как «неприятие потерь», объясняет паралич действующих лидеров.
Даже рациональный руководитель, понимающий, что инвестиции в новую технологию — правильное долгосрочное решение, будет колебаться. Краткосрочная боль от перехода — каннибализация прибыльных, но устаревающих подразделений, потеря власти старой гвардией, финансовые убытки в переходный период — ощущается острее и реальнее, чем туманная перспектива будущих выгод. Этот страх потерь парализует волю и приводит к бездействию, которое в конечном счете оказывается фатальным.














