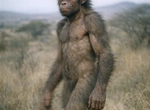В последние годы Веймарской республики, на фоне экономического коллапса после краха на Уолл-стрит в 1929 году и подъема национал-социализма, композитор Курт Вайль использовал утопические фантазии для критического анализа своего времени. По мнению писателя Роберта Хантера, оперы этого периода изображали утопию как «предмет, как представленное желание и, что особенно важно, как тему трансформации и действия». Целью Вайля и его соавторов было создание нового искусства: «новой музыки, нового театра для новой аудитории с новой социальной целью».

Первым таким произведением стала опера «Расцвет и падение города Махагони», созданная Вайлем совместно с либреттистом Бертольдом Брехтом и впервые представленная в 1930 году. Она выросла из зонгшпиля (пьесы с песнями), который авторы показали в Баден-Бадене в 1927 году. Махагони — это утопический «город-рай», служащий притчей о капитализме. Один из персонажей называет его «Городом сетей», поскольку он притягивает людей, отчужденных от современного мегаполиса. Сам Вайль описывал его как «современную идиллию, раздираемую недовольством и угрозой стихийного бедствия».
Мифический город Махагони содержит отсылки к библейским Содому и Гоморре, Вавилону, а также к фольклорным странам изобилия, таким как Кокань и ее немецкий аналог Шлараффенланд. Опера состоит из двадцати одной музыкальной картины, которые Вайль назвал «нравственными зарисовками нашего времени». В произведении намеренно отсутствует традиционная повествовательная линия: в нем «нет развития персонажей, нет сюжетной интриги или саспенса».
Центральный персонаж, Джимми Махони, встревожен идеальной гармонией и спокойствием города. «Нам не нужен ураган, нам не нужен тайфун, — заявляет он, — ведь те ужасы, что они могут принести, мы можем сотворить и сами». После того как ураган чудесным образом обходит город стороной, его жители погружаются в пороки: обжорство, проституцию, кулачные бои и пьянство. В итоге Джимми Махони арестовывают и приговаривают к смертной казни за неспособность оплатить выпивку для всех. Никто не приходит ему на помощь.
Попытка персонажей найти спасение в другом городе, Бенаресе, также проваливается: они узнают, что он был разрушен землетрясением, что символизирует окончательную смерть надежды. Согласно анализу Роберта Хантера, опера представляет собой «решительное отрицание прогнившего капиталистического порядка». Она не предлагает позитивного видения будущего, завершаясь разрушением и казнью. Эта критика носит вневременной и универсальный характер.
В 1933 году, на самом закате республики, состоялась премьера другой оперы Вайля — «Серебряное озеро: Зимняя сказка» с либретто Георга Кайзера. В отличие от «Махагони», это произведение является прицельной социальной критикой положения дел именно в Германии. Подзаголовок «Зимняя сказка» прямо указывает на его фантастический характер, а центральными темами становятся социальная солидарность и возмещение несправедливости.
Сюжет строится вокруг символических персонажей. Олим, полицейский, представляет политическую социал-демократию. Северин, вор, укравший ананас, символизирует революционный пролетариат. По мнению Хантера, ананас здесь — это «экзотическое обещание будущего счастья». В начале Олим стреляет в Северина и ранит его, но затем чувствует себя обязанным искупить вину. Выиграв в лотерею (символ ресурсов государства), он покупает замок.
В замке появляется фрау фон Любер, аристократка, вынужденная работать экономкой в своем бывшем имении, что олицетворяет судьбу вильгельмовской аристократии. Ее племянница Феннимор выступает «агентом примирения и надежды». Персонажи Олима и Северина проходят через глубокую трансформацию, достигая солидарности и примирения.
В финале фрау фон Любер изгоняет их из замка в зимнюю бурю. Происходит чудо: зима сменяется весной, и замерзшая поверхность Серебряного озера позволяет им перейти на другой берег в безопасное место. Опера несет в себе «позитивное послание о воссозданном человечестве и общественном порядке», а также является «посланием «осознанной надежды» на будущее».
Сравнение двух опер выявляет фундаментальное различие в их мировоззрении. В «Махагони» отсутствует трансформация персонажей, и финал мрачен. «Серебряное озеро», напротив, демонстрирует глубокие изменения главных героев и предлагает надежду на обновление социального порядка.
Несмотря на это, именно мрачная притча «Махагони» сохраняет большую актуальность. Хантер отмечает, что идеи «Серебряного озера» тесно связаны с социальным дискурсом Германии 1933 года, что может ослаблять их резонанс сегодня. Утопизм «Махагони», благодаря своему мифическому сеттингу, более универсален и может служить «шаблоном для новых постановок, а не копией оригинала».

Изображение носит иллюстративный характер
Первым таким произведением стала опера «Расцвет и падение города Махагони», созданная Вайлем совместно с либреттистом Бертольдом Брехтом и впервые представленная в 1930 году. Она выросла из зонгшпиля (пьесы с песнями), который авторы показали в Баден-Бадене в 1927 году. Махагони — это утопический «город-рай», служащий притчей о капитализме. Один из персонажей называет его «Городом сетей», поскольку он притягивает людей, отчужденных от современного мегаполиса. Сам Вайль описывал его как «современную идиллию, раздираемую недовольством и угрозой стихийного бедствия».
Мифический город Махагони содержит отсылки к библейским Содому и Гоморре, Вавилону, а также к фольклорным странам изобилия, таким как Кокань и ее немецкий аналог Шлараффенланд. Опера состоит из двадцати одной музыкальной картины, которые Вайль назвал «нравственными зарисовками нашего времени». В произведении намеренно отсутствует традиционная повествовательная линия: в нем «нет развития персонажей, нет сюжетной интриги или саспенса».
Центральный персонаж, Джимми Махони, встревожен идеальной гармонией и спокойствием города. «Нам не нужен ураган, нам не нужен тайфун, — заявляет он, — ведь те ужасы, что они могут принести, мы можем сотворить и сами». После того как ураган чудесным образом обходит город стороной, его жители погружаются в пороки: обжорство, проституцию, кулачные бои и пьянство. В итоге Джимми Махони арестовывают и приговаривают к смертной казни за неспособность оплатить выпивку для всех. Никто не приходит ему на помощь.
Попытка персонажей найти спасение в другом городе, Бенаресе, также проваливается: они узнают, что он был разрушен землетрясением, что символизирует окончательную смерть надежды. Согласно анализу Роберта Хантера, опера представляет собой «решительное отрицание прогнившего капиталистического порядка». Она не предлагает позитивного видения будущего, завершаясь разрушением и казнью. Эта критика носит вневременной и универсальный характер.
В 1933 году, на самом закате республики, состоялась премьера другой оперы Вайля — «Серебряное озеро: Зимняя сказка» с либретто Георга Кайзера. В отличие от «Махагони», это произведение является прицельной социальной критикой положения дел именно в Германии. Подзаголовок «Зимняя сказка» прямо указывает на его фантастический характер, а центральными темами становятся социальная солидарность и возмещение несправедливости.
Сюжет строится вокруг символических персонажей. Олим, полицейский, представляет политическую социал-демократию. Северин, вор, укравший ананас, символизирует революционный пролетариат. По мнению Хантера, ананас здесь — это «экзотическое обещание будущего счастья». В начале Олим стреляет в Северина и ранит его, но затем чувствует себя обязанным искупить вину. Выиграв в лотерею (символ ресурсов государства), он покупает замок.
В замке появляется фрау фон Любер, аристократка, вынужденная работать экономкой в своем бывшем имении, что олицетворяет судьбу вильгельмовской аристократии. Ее племянница Феннимор выступает «агентом примирения и надежды». Персонажи Олима и Северина проходят через глубокую трансформацию, достигая солидарности и примирения.
В финале фрау фон Любер изгоняет их из замка в зимнюю бурю. Происходит чудо: зима сменяется весной, и замерзшая поверхность Серебряного озера позволяет им перейти на другой берег в безопасное место. Опера несет в себе «позитивное послание о воссозданном человечестве и общественном порядке», а также является «посланием «осознанной надежды» на будущее».
Сравнение двух опер выявляет фундаментальное различие в их мировоззрении. В «Махагони» отсутствует трансформация персонажей, и финал мрачен. «Серебряное озеро», напротив, демонстрирует глубокие изменения главных героев и предлагает надежду на обновление социального порядка.
Несмотря на это, именно мрачная притча «Махагони» сохраняет большую актуальность. Хантер отмечает, что идеи «Серебряного озера» тесно связаны с социальным дискурсом Германии 1933 года, что может ослаблять их резонанс сегодня. Утопизм «Махагони», благодаря своему мифическому сеттингу, более универсален и может служить «шаблоном для новых постановок, а не копией оригинала».